В тот понедельник Саша проснулась без будильника — впервые за три года. Не потому что выспалась, не потому что был выходной, а просто… проснулась. Как будто внутри неё выключили что-то важное — механизм, заставляющий вставать по команде. Часы на стене показывали 6:47, за окном валил мокрый снег, и что-то в воздухе было чужим, неприветливым. Она лежала, вглядывалась в потолок, слушала, как шумит старый радиатор. Шум был неравномерный, с подвыванием — будто кто-то там, внутри, тёрся плечом о трубы. Должно быть, сорвало давление. Или просто в доме стало холодно. Или это внутри неё давление спало — всё равно.
На кухне всё было как всегда: белая кружка с трещиной на ободке, холодильник с магнитами из мест, где она никогда не была, крошки от вчерашнего хлеба на столешнице. Даже занавеска слегка колыхалась, как будто её кто-то только что тронул. Кошки не было — не стало уже год, но рука по-прежнему машинально тянулась к шкафу за кормом. Привычка сильнее памяти. Или это память упрямо отказывается соглашаться с потерей.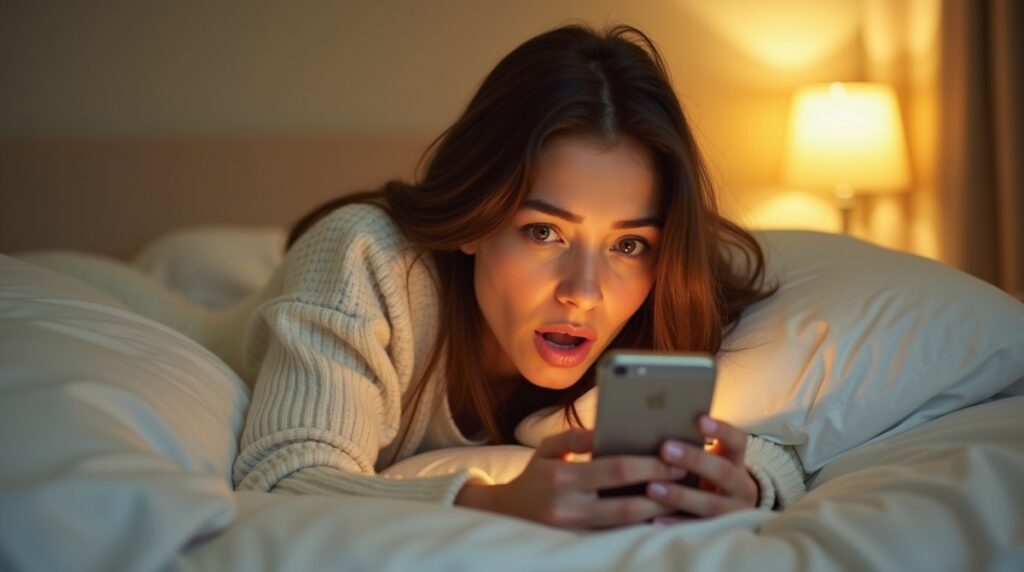
Саша работала в типографии. Шестой год. Каждый день как копия предыдущего: одно и то же задание, одно и то же лицо в зеркале, один и тот же запах краски, резак, гул машин. Вся её жизнь будто была напечатана на плохой бумаге — без цвета, без текстуры, с ошибками вёрстки. Коллектив стабильный: Коля с вечно нечищеными ногтями и шутками про тёщу, Лена — с новыми любовными драмами, которые обсуждала по громкой связи в туалете, и старый Степаныч, чьи глаза светились только когда он показывал очередную фотографию внука на фоне телевизора. И никакого смысла — только повторение. Бесконечная петля из будней.
Пока она чистила зубы, взгляд упал на отражение в зеркале. Не уставшее, не старое — просто лицо человека, который уже давно не задаёт себе вопроса «а зачем?». Потому что однажды, поняв, что ответов всё равно нет, она перестала даже пытаться.
На работу не поехала. Просто не встала на своей остановке. Сидела в автобусе и смотрела, как типография мелькает за стеклом, будто кадр в плохом фильме. Мимо — торговый центр, знакомые пешеходы, женщина с зелёной сумкой, которую она видела каждое утро. Всё — как в спектакле, где она забыла текст и решила просто выйти со сцены. Вышла на другом конце города — на углу, где когда-то, в девятом классе, они с подругой Марусей пили сидр из пакета и целовались с мальчиками, чьи имена давно забылись. Время тогда текло иначе. Свободно. Без ценников и будильников.
На углу теперь был кофейный киоск, крашенный в мятный цвет, с кривовато написанным от руки меню. Саша купила самый дорогой латте с сиропом — просто потому что могла. Взяла с корицей, хотя раньше терпеть не могла корицу. Переходила улицу, пила, ощущая, как горячее молоко слегка обжигает нёбо, и вдруг подумала, что, наверное, именно так ощущают себя беглецы. Не те, кто спасается от войны или долгов, а те, кто бежит из собственной, застоявшейся жизни. Только она не убегала — просто шагнула в сторону. Как человек, который больше не хочет быть декорацией.
До обеда она бродила по незнакомым дворам, смотрела, как дети в куртках лепят неуклюжего снеговика — с глазами из бутылочных крышек и веткой вместо руки. Как бабушка, кутаясь в платок, вытаскивает из сумки старый батон и аккуратно ломает его для голубей, будто кормит не птиц, а что-то более значительное, хрупкое. Как парень в наушниках, уткнувшись в экран, строчит что-то пальцами так быстро, будто от этого зависит судьба мира. Всё это будто происходило на сцене, а она — зритель, которому наконец разрешили смотреть, но не участвовать. И в этом было странное, почти острое утешение.
После двух часов дня зашла в парикмахерскую. Спонтанно. Как будто кто-то подтолкнул — не плечом, а чем-то изнутри, чем-то, что давно зрело и вдруг проросло.
— Что-то кардинальное? — спросила мастер, глядя в зеркало, будто пытаясь поймать в нём Сашино настроение.
— Ага. Только не слишком красиво. Мне надо, чтобы мама испугалась.
— Поняла, — усмехнулась та и ловко застригла первую прядь.
Волосы падали на пол, как обрывки прошлой жизни. Каждая прядь будто отрезала какой-то вечер, какой-то недосказанный разговор, какой-то день, где она молчала, когда нужно было закричать. Когда Саша вышла — с короткой, неровной, как после бурного моря, стрижкой — ей вдруг стало легче. Как будто в голове разом освободилось место. Как будто уехал гость, который жил в ней слишком долго и шумно.
Она купила пирожок в ларьке у метро, съела на ходу, зашла в книжный, выбрала самую толстую и бесполезную книгу — сборник лекций по философии — просто чтобы доказать себе, что может выбрать что угодно, даже бессмысленное. И подумала: «Вот теперь я точно сорвалась с катушек». И тут же рассмеялась. Настоящим, открытым смехом, до слёз. Люди оборачивались, но ей было всё равно — она впервые за долгое время чувствовала, что это она смеётся, а не кто-то чужой в её теле.
Домой вернулась вечером. Мама стояла у окна, всё в той же кофте, в которой обычно варила борщ по воскресеньям. Не ругала. Не кричала. Только спросила:
— Ты жива?
Саша кивнула.
— Ну и слава богу.
Они сели ужинать. Разогрели суп. Молча ели. Время от времени ложки стучали о края тарелок. Саша смотрела, как дрожит огонёк свечи на подоконнике. Свет падал на край её новой стрижки — и вдруг ей стало уютно в этом свете.
— Я завтра уволюсь, — сказала она. — И, может быть, поступлю на вечерние курсы.
— Какие?
— Не знаю. Может, гончарное дело. Или монтаж видео. Или научусь говорить «нет».
Мать улыбнулась. Перевернула хлебную корочку, как будто переворачивала страницу, которую можно перечитать иначе.
— Главное, чтоб не молчала. Молчание хуже всего.
И Саша кивнула. Потому что в этом понедельнике, полном мокрого снега, кофе, чужих улиц и тишины, которая не давила, а обнимала, она впервые за долгое время почувствовала себя живой. Без необходимости кому-то соответствовать, без ощущения, что на ней чьи-то ожидания, как невидимый рюкзак. Не счастливой — ещё нет. Не влюблённой — может быть, когда-нибудь. Не успешной — и слава богу. Просто — собой. Без костюма, без роли, без фоновой музыки.
И этого оказалось достаточно. Более чем.
















