Мария Ивановна знала: сегодня или никогда. На восьмидесятом году жизни решения приходят не потому, что ты готов, а потому что просто больше не можешь терпеть. Дом престарелых “Ромашка” дышал равномерно и глупо, как уснувший хомяк. С потолка свисала лампа дневного света, моргая раз в десять секунд — как будто напоминала: вы не дома, а на медленном складе людей. Тут не ждали смерти — тут от нее отвлекали.
Мария сидела на кровати в своей комнате — номер шестнадцать, второй этаж, окно на задний двор. На ней была ее цветастая пижама, купленная дочерью из чисто декоративных побуждений: “Ты в ней на фото такая веселая, мам”. Веселой она не была ни на фото, ни в жизни, но пижама была удобной. А сегодня еще и боевой униформой.
На коленях у нее сидела Мурка — старая, мудрая кошка, с мордой вечного разочарования. Мария приподняла банку с вареньем — клубничным, сделанным еще до “Ромашки”, когда были силы и плита под рукой.
— Ну, Мурка, — сказала она, — или мы сдохнем от скуки, или попробуем умереть по дороге. Что скажешь?
Кошка мяукнула недовольно.
— Принято. Дорога. Все как в кино, только вместо чемодана — банка варенья и ты.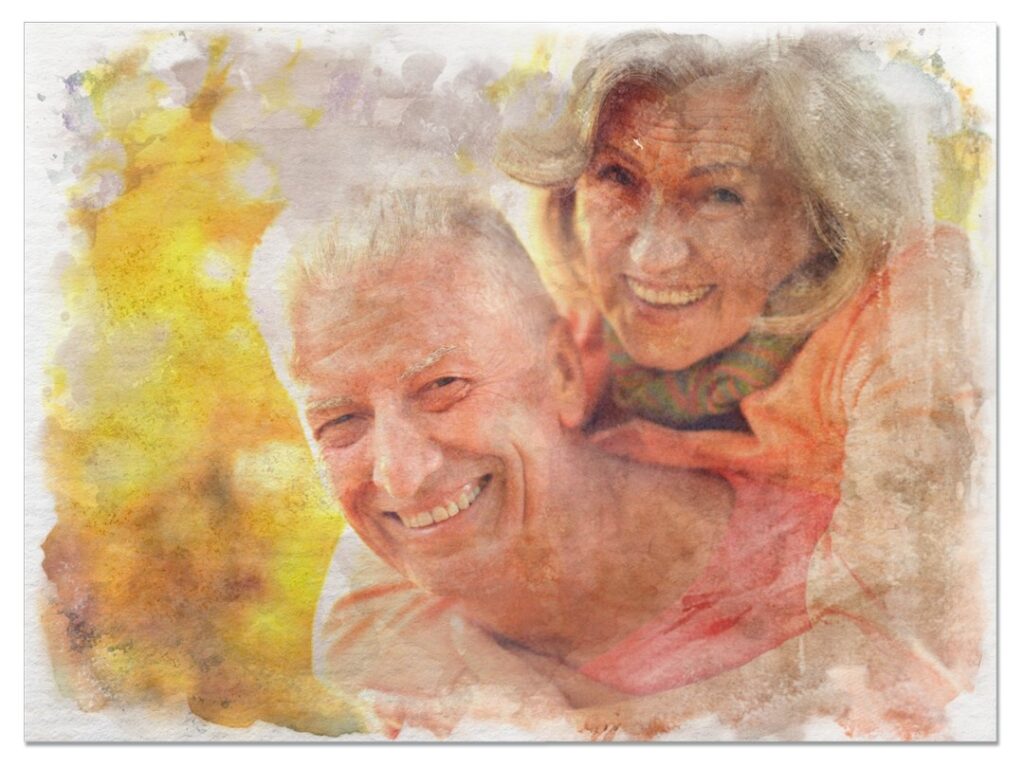
Она встала, натянула носки с рождественским оленем — остались еще с 90-х, где-то между МММ и гиперинфляцией — и подошла к двери. Часы показывали 02:48. Отлично. Сестра Ольга спала крепко, с дыханием кузнечного меха. Один раз Мария уже проверяла: если пошуметь, та не просыпается. Надежда только на это и была.
Дверь скрипнула. Конечно. Это ж “Ромашка”, тут скрипит все — от суставов до поручней. Мария втянула живот — рефлекторно — и выскользнула в коридор. Сзади осталась комната с белыми стенами, фотографиями в рамках и вонючей орхидеей в горшке. Мурка сидела в кармане ее халата, как полноправный участник побега.
Коридор был длинным, как их с мужем брак. Казалось, ему нет конца, только тупик и клейкие тапочки. Она скользила вдоль стены, как по школьной сцене, когда в детстве играла воробья в елочном спектакле. Тогда ей было семь. Сейчас — семьдесят восемь. Мало что изменилось, Все еще чужая роль.
— Если нас поймают, — прошептала она в карман, — ты скажешь, что сбежала сама. Поняла?
Кошка тихо шевельнулась. Банка варенья — в другой руке — была холодной и липкой. Первое испытание — лестница. Лифт, естественно, не работал по ночам. Не экономия, так оздоровление. Пришлось идти пешком. Мурка царапалась, пытаясь выбраться из глубокого, халатного кармана, банка варенья тренькала в такт сердцебиению об пуговицы на пижаме.
— Черт вас всех подери, — выдохнула Мария, — особенно главврача. Столько лет я за всех боролась, а теперь вы мне даже лифт отключили.
Она остановилась на площадке между этажами. На секунду показалось, что она не убегает, а возвращается с ночной смены. Когда-то у нее были смены, рабочая одежда, метро в шесть утра. Теперь — пижама и кошка.
Во дворе пахло сиренью и плесенью. Май был ранний, вечер — холодный, но Мария чувствовала, как в груди у нее шевелится нечто похожее на радость. Может, глупость, а может, свобода.
Калитка — старый, заржавевший механизм — сопротивлялась. Беглянка толкнула плечом. Скрип. Звук такой, будто весь дом престарелых повернулся на другой бок.
— Считай, что это наша увертюра, — сказала она Мурке, — симфония побега.
Остановку она видела издалека. Маленькая скамейка, облезлый козырек, и, кажется, мусорный бак с наклеенной криво рекламой похоронных услуг. Как символично.
— До свидания, Ромашка, — выдохнула она, — было не то чтобы приятно, но уж точно незабываемо.
Она дошла до скамейки, плюхнулась. Мурка вылезла, села рядом, посмотрела на нее укоризненно.
— Что? Хотела жить — живи теперь. Мы в деле.
Минут десять прошло в молчании. Фонари мерцали, где-то шуршали кусты. Варенье согрелось в руках. Мурка начала вылизывать лапу. И вдруг Мария громко рассмеялась. Не сдержанно, не культурно, а по-настоящему, как в юности, когда однажды залезла в речку голышом.
— Представляешь, — сказала она вслух, — если автобус придет, а водитель откажется брать пенсионерку в пижаме с вареньем и котом?
Кошка только прищурилась.
— А может, и к лучшему. Может, он нас отвезет в какую-нибудь жизнь. Где не надо расписаний, графиков давления, гимнастики для тазобедренного сустава. Где можно просто сидеть — вот так — и быть.
Автобус не ехал. Но ей уже не было страшно. Главное — она вышла. Остальное — импровизация, и небо над остановкой впервые за долгие месяцы казалось не потолком.
Остановка была облупленной, с металлической крышей, покрытой ржавчиной, и стенкой из стекла, на котором когда-то были расписания, теперь — только царапины, обрывки объявлений и надпись фломастером: “Светка — дура”. Автобус не шел, ветер то усиливался, то стихал, как будто дразнил. Мария сидела, поджав ноги, прижимая к себе банку варенья. Мурка лежала на коленях, замотанная в подол пижамы, как древнее божество. Спала.
Она только начала дремать, когда услышала шаги, сухие, быстрые, нервные. Подросток. Ростом чуть выше среднего, в серой худи с капюшоном, торчащими наушниками и рюкзаком, висящим на одном плече. Волосы — пакля, взгляд — настороженный, но не злой. Он остановился в паре метров, посмотрел на нее и фыркнул.
— Чего сидишь? — спросил он, как будто это была его остановка по праву рождения.
— А ты че, диспетчер? — отозвалась Мария.
— Нет. Просто странно, что тут бабка в пижаме с котом.
— Это не кот, а кошка. И не бабка, а бабушка.
Он усмехнулся, но не ушел. Присел на краешек лавки, подальше от нее, достал из кармана телефон, ткнул пару раз по экрану, потом бросил взгляд на банку варенья.
— Это у тебя что, прикормка для лис?
— Почти. Запас на крайний случай. А ты чего такой важный?
— А ты чего такая шустрая? Ты же старая.
— А ты хамоватый. Ты же молодой.
— Ты из “Ромашки” сбежала, что ли? — он снял наушник с одного уха.
Мария вскинула бровь:
— Ты местный?
— Ага. Тут бабки из “Ромашки” иногда приходят в аптеку. Но не в пижаме.
Она кивнула.
— Ну, считай, я первая.
— Крутая, — он посмотрел на нее внимательнее, потом на кошку.
— Спасибо.
— А куда едешь-то?
— Пока не знаю. Но точно не назад.
Парень качнул головой, будто удивлен, но не настолько, чтобы возражать.
— Я Макс.
— Мария Ивановна. Но можно просто Мария.
— Странно. Моя бабушка мне бы врезала, если б я ее Марией назвал.
— У тебя бабушка жива?
— Умерла. Но, кажется, она бы тобой гордилась.
Мария усмехнулась. В ее ухе зазвенело от сквозняка.
— А ты чего сам тут, ночью? Не рановато для улицы?
— Лучше поздно, чем дома. Отец орет, мать — как будто стеклянная. Думал, погуляю, проветрюсь от них.
Они замолчали. Где-то вдалеке проехала машина. Мурка зашевелилась, развернулась на коленях, буркнула недовольно и спрятала морду.
— Я, кстати, — добавил он через минуту, — могу посмотреть, когда автобус приедет.
— А ты думаешь, у меня есть билет?
— У водителей всегда можно договориться. Особенно если ты в пижаме и с вареньем.
— Гениально. А если я его угощу?
— Тогда точно подбросит. Варенье — универсальная валюта.
Он достал телефон, нашел расписание.
— Следующий — через двадцать минут, ночной, рабочий. Потом — только утром.
— Тогда ждем. Надеюсь, не под дождем.
Они сидели молча. Макс поставил музыку потише, оставив один наушник свободным. Мария не узнала мелодию — что-то между рэпом и метеоритным дождем.
— А ты вообще не боишься? — спросил он.
— Чего?
— Ну, куда-то ехать. Без всего. Одна.
— Я боюсь только обратно вернуться. А вперед — нет.
— Круто.
Он задумался, потом вдруг добавил:
— А хочешь, я с тобой немного проеду?
Мария посмотрела на него с интересом.
— Родители не заметят?
— Плевать им на меня. Все равно никто не спросит.
— Поехали. Только ты держи кошку, когда я лезть буду. А то у нее когти как у адвоката.
— Ладно. Мурка, да? Я ее уважаю, — он рассмеялся.
Они переглянулись. Остановка уже не казалась такой заброшенной, ночь — такой одинокой, варенье — универсальной валютой, а автобус замигал фарами на повороте.
Автобус прибыл, как будто нехотя. Скрипнул тормозами, хмыкнул старым мотором и замер, моргая фарами. Двери открылись с характерным вздохом — таким, будто сам устал везти этих людей с остановки на остановку. Внутри — тепло, слегка пахнет пылью, бензином и чем-то кондитерским. Мария поднялась первой. Макс держал Мурку, осторожно передал ее бабушке уже внутри.
Водитель скользнул по ней взглядом — долго останавливаться не стал. Либо устал, либо подумал, что видит галлюцинацию. Женщина в пижаме, с кошкой, с банкой варенья — не каждый день на маршруте №7. Мария полезла в карман.
— У меня денег нет, но могу угостить вареньем. Очень вкусное, клубничное.
— Да садитесь уже. У нас тут и не таких возили. Только без песен и танцев, — водитель хмыкнул.
— Обещаю. Только философия и кошка.
— Кошка — это хорошо, — сказал он, — только кресла не рвет?
— Только характер.
Она пошла по проходу. Макс шел следом, но на второй остановке все же вышел — “Мне надо домой, баб Мария, а то с утра точно в психушку увезут”. Она кивнула и даже обняла его — неловко, но искренне. Он смущенно махнул рукой и исчез во тьме улицы.
Мария устроилась у окна, поставила банку варенья на колени, сверху — кошку. Та мурчала тихо, как портативный моторчик. Пижама ее слегка примялась, но смотрелась на фоне серых сидений почти вызывающе. Бунт в ромашках.
Через пару остановок рядом сел мужчина. Лет под восемьдесят, в темном пальто, с серой шляпой в руках. У него было лицо шахматиста: сосредоточенное, с намеком на постоянную иронию. Он с интересом посмотрел на нее.
— Извините, — сказал он, — но я, кажется, попал в не тот автобус. Я ехал в реальность, а оказался в абсурде.
— Тогда вам со мной, — сказала она, — я — проводник.
— Случайно или по контракту? — с наигранным любопытством спросил он.
— По внутреннему порыву.
— Понятно. Мятежница.
— Экс-бабушка. Сейчас — беглянка.
Он кивнул, задумчиво.
— Кошка ваша?
— Пока не жалуется.
— Варенье?
— Домашнее. Хотите ложку?
Он нахмурился.
— Если бы мне предложили варенье от женщины в пижаме с котом в автобусе десять лет назад, я бы подумал, что пора заканчивать пить.
— А сейчас?
— Сейчас думаю, что вы, наверное, самый адекватный человек в этом автобусе.
Мария впервые за день рассмеялась легко.
— А вы кто такой?
— Виктор Николаевич. Пенсионер с литературным уклоном. Иногда пишу стихи, но не признаюсь в этом знакомым.
— Мария. У меня все наоборот — ничего не пишу, но постоянно рассказываю истории.
Он посмотрел на нее снова, уже внимательнее.
— А вы не боитесь ехать в пижаме?
— Я боялась там остаться. Здесь — даже любопытно.
— А вы знаете, что это революционно?
— Что — пижама?
— Нет. Не бояться.
— Это не от смелости. Просто наступает момент, когда все остальное уже хуже.
Он кивнул. Несколько секунд смотрел в окно, потом снова на нее.
— А вы откуда?
— Из “Ромашки”.
— Ах. У меня мать там жила. До весны 15го года.
— Соболезную.
— Не надо. Ей там было лучше, чем со мной. Я не умел быть сыном. Особенно пожилым.
Мария молчала. Мурка вытянулась на ее коленях, перевернулась пузом вверх. Виктор осторожно провел пальцем по шерстке.
— Кошка вам подходит. Вы обе странные.
— Это комплимент?
— Если хотите — да. Я сам такой.
Они ехали молча еще минут десять. Автобус трясся, фонари проносились за окнами, как мимо жизней, которые они больше не собирались жить.
— Вы знаете, — вдруг сказала Мария, — мне кажется, старость — это не когда ты с палкой, а когда тебя перестают воспринимать как личность.
— Точно.
— Я поняла это поздно. В “Ромашке” нас всех называли по имени и отчеству, но никто не слушал, когда мы говорили что-то свое.
— Их обучили молчать. Потому что так проще ухаживать.
— А я не хочу, чтобы меня обслуживали. Я хочу — чтобы меня слушали. Или хотя бы не мешали.
Он протянул ей руку.
— Давайте дружить.
— Как дети?
— Как старики, у которых снова есть выбор.
Она пожала его ладонь. Сухую, теплую, чуть дрожащую. Как память. Автобус шел дальше, но у Марии впервые не было ощущения, что ее везут куда-то без нее. Она сама ехала — и рядом был человек, который понимал, почему она в пижаме.
Утро город встретил сдержанно: ни дождя, ни солнца, ни особой симпатии к людям в пижамах. Автобус остановился у старого сквера, и Виктор с Марией вышли, будто сошли с парохода во времена Чехова — только вместо чемоданов у них были банка варенья, кошка и ощущение, что они никуда не опаздывают, ведь они катались всю ночь.
Кошка вылезла первой — явно недовольная транспортом и количеством тряски. Она фыркнула, обошла лавку, уставилась на ворон. Мария поправила пижаму и спросила:
— Куда дальше?
— Я бы кофе выпил, — сказал Виктор, — желательно — с чем-то съедобным.
— Главное — без манной каши.
— Я с детства подозреваю, что манка — заговор.
На углу стояла кондитерская. Стеклянная витрина с булочками, кривой неон «Пекарня», запах выпечки и дешевого кофе. Место, где встречаются одинокие старики, уставшие студенты и люди, которые забыли купить хлеб. Они вошли. Колокольчик над дверью звякнул, как будто удивился. За прилавком стояла девушка лет тридцати. Увидев их, она на секунду застыла, потом прищурилась:
— Эм… вы в порядке?
— Абсолютно, — ответил Виктор, — мы — экскурсия из будущего.
— Из параллельной вселенной, — добавила Мария.
— Где пижамы — это форма протеста, — завершил он.
Продавщица прикусила губу, потом рассмеялась.
— У нас есть булочки с корицей и с маком. Кофе — растворимый, но честный. Чай — без философии.
— Один мак, один корица. И кофе, пожалуйста. И… можно тарелочку для варенья?
— Простите, что?
— У нас с собой варенье, — объяснила Мария, доставая банку, — очень хорошее. Домашнее.
— С ума сойти, — сказала продавщица, — мне кажется, я сегодня запомню вас лучше, чем собственный завтрак.
Они уселись за столик у окна. Мурка прыгнула на подоконник, улеглась у стекла и начала вылизывать лапу с таким видом, будто здесь будет жить.
Булочки были теплыми, мягкими. Мария разрезала одну, достала маленькую ложку из кармана халата — была, на всякий случай. Намазала щедро. Варенье растеклось, аромат стал почти нестерпимым.
— А вы раньше тоже варили? — спросила она.
— Нет. Я был в этом смысле ленив. Моя жена делала. Я ел и восхищался. Это было честное разделение труда.
— А сейчас?
— Сейчас я больше читаю. И кушаю, что попадается, но сегодня — вы, варенье, булка и кошка. Это почти поэзия.
— Почти, — кивнула Мария, — хотя поэзия — это когда бутерброд падает вареньем вниз.
Он отломил кусочек, положил в рот, закрыл глаза.
— Господи. Это не просто варенье. Это дипломатия.
— Я бы сказала — убеждение.
— Вы могли бы договориться с диктатором, если бы поставили перед ним эту банку.
Смеялись тихо, по-взрослому, не размахивая руками, но с теми же искрами в глазах, которые бывают у детей, когда они находят тайник с конфетами. Продавщица подошла, присела на корточки, погладила Мурку.
— Она немного сердитая, — сказала.
— У нее синдром автобусной усталости.
— А вы знаете, — добавила девушка, — вы бы могли стать местной легендой.
— Поздновато для легенд, — ответила Мария.
— Никогда не поздно. Особенно если в пижаме и с кошкой.
Мурка посмотрела на неё с презрением.
— Она не любит людей, которые думают, что все понимают, — сказала Мария.
— Как и я, — подмигнул Виктор.
Пили кофе, ели булочки. Мимо проходили люди, кто-то оглядывался, но никто не подходил. Внутри было тепло, как в старом кухонном чайнике — без лишней эстетики, но по-настоящему.
— А ведь можно просто жить, — проговорила Мария, не отрывая взгляда от улицы, — Без расписаний, проверок давления и песен под баян.
— Можно, — сказал Виктор, — но только если заранее решишь, что старость — это не конец, а просто неудобная обувь.
Она засмеялась. Кошка чихнула.
— А вы не думали, — спросила Мария, — остаться здесь?
— Здесь — это где?
— Здесь, в городе. Не возвращаться.
— А вы?
— Уже решила. Я не поеду обратно. Ни в дом, ни в роль, ни в “Ромашку”.
Он посмотрел на нее. Потом — на улицу. Потом — на булку с вареньем.
— Пожалуй, мне стоит попробовать жить рядом с тем, кто умеет варить варенье и разговаривать с котами.
Она протянула ему банку.
— Возьмите с собой. Вдруг понадобится на случай дипломатии.
Виктор взял банку двумя руками, будто чашу святой воды. Кошка зевнула, как бы подтверждая сделку, а в углу продавщица писала что-то в блокноте. Наверное, заголовок: “Женщина в пижаме и ее кошка спасли утро”.
Кофе был выпит, варенье — доедено. Кошка, как водится, выражала недовольство отсутствием подушки под лапой и шумом улицы за окном. Мария потянулась, поправила пижаму, которая к этому моменту стала почти униформой революционера, и посмотрела на Виктора:
— И что теперь? Мы же вроде как сбежали, но дальше-то?
Он посмотрел на нее, чуть улыбнулся:
— У меня есть комната. Не подумайте ничего… глупого. Просто… место, где можно посидеть, подумать. Там квартирант, правда — студент. Немного странный. Но с чаем и приличной аудиосистемой.
— Студент? Надеюсь, не агрессивный веган?
— Скорее философ-анархист. Считает, что вся еда — метафора власти.
— Прекрасно. Надеюсь, он не съест кошку.
— Он — за равноправие всех живых существ. Так что максимум — пригласит ее на лекцию.
Они вышли из кондитерской и пошли вдоль улицы. Город не спал, но и не бодрствовал. Машины шуршали редко, небо было чистым, звёзды — будто уставшие от вечного наблюдения. Кошка устроилась в сумке Виктора — лицом наружу, как разочарованный инспектор. Шли они молча, но молчание было теплым, как шерстяной плед.
Квартира Виктора оказалась в старом доме с облупленным фасадом и винтовой лестницей, которая скрипела при каждом шаге, словно жаловалась на судьбу. На двери — стикер: “Открывай, если ты не полиция”. Виктор постучал.
— У него немного… юмор специфический.
— Мне это подходит. Я сама специфическая.
Дверь открыл молодой человек в вытянутом свитере и с чашкой чая в руке. Он окинул гостей взглядом, остановился на Марии.
— Простите, вы…
— Я — Мария. С кошкой.
— Прекрасно, — сказал он, — входите. У нас сейчас квартирник. Только без обуви и без агрессии.
Комната была небольшая, но уютная. Книжные полки, кресла, пледы. В углу — колонка, из которой лилась музыка: старая джазовая пластинка с потрескавшимися саксофонами. За столом — трое: девушка с зелеными волосами (рисовала что-то углем прямо на обоях), мужчина с серьезным лицом (держал чашку двумя руками, как чашу Грааля), и парень с гитарой, который тихо наигрывал что-то без аккордов.
— Это Мария, — представил Виктор, — она сегодня сбежала.
— Из тюрьмы? — оживился парень с гитарой.
— Из дома престарелых.
— То есть почти.
Мария присела на край дивана, разулась, поставила остатки варенья на стол.
— Угощайтесь. Это — мой билет на свободу.
Девушка с зелеными волосами подняла бровь:
— Вы сделали варенье и сбежали?
— Скорее сбежала и взяла варенье. По очереди.
Кошка вылезла из сумки, осмотрелась, уставилась на гитариста. Тот кивнул:
— Уважаю. Умная кошка. Чувствует, где не фальшивят.
Виктор между делом включил музыку громче. Комната наполнилась звуками. Было уютно, немного странно, но очень живо. Студент в свитере внес самодельный торт:
— У нас это традиция. Каждый гость обязан танцевать. Даже кошка.
— Я за нее не отвечаю, — ответила Мария, — но я могу.
И она поднялась. Медленно, сдержанно. Сначала просто покачивалась в такт. Пижама немного мешала, но Мария не обращала внимания. Ее тело — не то чтобы помнило танцы, но знало: движения бывают не только к кровати и обратно.
— Браво! — воскликнул гитарист, — бунт в цветочек!
Мария закружилась, в какой-то момент — даже на цыпочках. Комната вспыхнула аплодисментами. Кошка смотрела с подоконника, как дирижер, контролирующий оркестр с мурлыканьем вместо метронома.
Виктор подошел к книжной полке, достал тетрадь.
— Раз уж пошла такая пьянка, — сказал он, — позвольте немного поэзии. Без сахара.
Он раскрыл тетрадь, слегка прочистил горло.
— “Старость — не дом с занавесками, а воздух, что вдруг стал твоим.Не кладбище мелких уступок, а поле, где ты — господин…»
Он читал, и в комнате стало тише. Даже гитарист замолчал, даже чай перестал булькать. Мария стояла посреди этого мира — в пижаме, с вареньем и кошкой — и чувствовала себя не на краю жизни, а в ее центре. Когда он закончил, в комнате повисла пауза. Потом студент сказал:
— Это лучше, чем диплом.
— Это — жизнь, — добавила Мария, — в ее странной, вареной форме.
Кто-то включил пластинку посовременнее. Кто-то налил чаю. Мария села рядом с Виктором, подтянула ноги под себя.
— Я думала, что старость — это как выключатель. Щелк — и темно, а оказывается, просто лампочка перегорела в одной комнате.
— А в другой — кто-то танцует, — сказал он.
Они сидели рядом. И ни возраст, ни пижама, ни кошка не мешали им чувствовать себя — на равных. Как будто весь этот ночной квартирник был не странной случайностью, а чем-то, чего они ждали всю жизнь.
Утро после квартирника было странно тихим. Не тишина, а ощущение пространства между событиями. В квартире все спали: студент свернулся калачиком с книгой на груди, гитарист дремал с рукой на грифе, а девушка с зелеными волосами укрылась под пледом, на котором Мурка спала, как будто ничего не случилось.
Мария сидела у подоконника, пила чай с вареньем и смотрела в окно. Виктор подошел сзади, протянул ей носки. Теплые, в клетку.
— Ты мерзнешь.
— Я просто живу, — ответила она.
— Пойдем в сквер. Там хорошо думать.
— Пойдем, — сказала Мария, — я уже не могу сидеть. Я теперь, кажется, человек улиц.
Они вышли. Воздух был прохладным, солнце — скользким. Сквер был простым: несколько скамеек, детская площадка и тополя, которые сбрасывали пух, как будто все вместе решили облысеть. Старики сидели на лавке. Мария кормила Мурку из крышечки: немного воды и капля варенья.
— Что дальше? — спросил Виктор.
— Не знаю.
— Домой точно не хочешь?
— Я уже дома. Здесь. Сейчас.
— А если за тобой приедут?
Мария усмехнулась.
— Пусть приезжают. Только я не подпишу капитуляцию.
Он кивнул, будто обдумывал план побега, который не предусматривал поезда.
Сзади послышался голос:
— Мария Ивановна?
Она обернулась. Две фигуры. Одна — в строгом пальто, вторая — в спортивном костюме. Обе — из “Ромашки”. Светлана Петровна, заведующая, и охранник, Стас. Продавщица, видимо, все-таки оказалась бдительной, а может, дети. Нет, наверняка — дети. Они ведь подали в розыск, если не дозвонились.
— Вот вы где, — сказала Светлана Петровна с нотками облегчения и упрека, — мы вас ищем вторые сутки.
— Неудивительно, — сказала Мария, — я не оставляла карту.
— Вы не можете просто взять и уйти.
— А если могу? — Мария подняла бровь.
— Ваши дети переживают. Мы переживаем. Это безответственно. Вы в пижаме, без телефона, без лекарств.
— Я с вареньем и с кошкой. Этого мне достаточно.
— Это не смешно, — сказала заведующая, — мы подали в розыск. У нас все официально.
— А у меня, — сказала Мария, — все по-настоящему.
Охранник Стас переминался с ноги на ногу. Он был не злым, просто не понимал, зачем вся эта философия. Его учили: порядок — это хорошо, а если бабушка в пижаме — значит, что-то пошло не так.
— Пожалуйста, собирайтесь. Мы отвезем вас обратно.
— Я не поеду.
— Не заставляйте нас применять меры.
— Применяйте. Хотите — свяжите. Только знайте: это будет первое дело в истории, когда пенсионерка сбежала, чтобы жить, а ее поймали, чтобы снова лишить этого права.
— Вы не понимаете, как устроена система. Ваши дети подписали договор.
— О, я прекрасно понимаю. Она устроена так, чтобы я тихо сдохла под белой простыней, но я — не против системы. Я просто не ваша собственность, и договор подписывала не я.
В этот момент в сквер вбежал Макс. В руках у него был пакет с кефиром и булочкой. Он остановился, увидел картину.
— Что происходит?
— Макс? — удивилась Мария.
— Да. Я… ну… шел мимо. Хотел вам булочку принести. С корицей.
Светлана повернулась к нему.
— Молодой человек, это не ваше дело.
— А я думаю, что мое. Она мне друг.
— Ей нужна медицинская помощь.
— А вам — совесть.
Виктор зааплодировал мальчику, даже кошка замерла. Стас кашлянул.
— Вы не имеете права, — сказала заведующая.
— А вы имеете право таскать людей обратно в старость? Она что, вещь? У нее голос есть. Она вам говорит — не хочет. Так отстаньте, — Виктор тоже встал на защиту, уже подруги, он встал, подошел ближе и продолжил.
— Я бывший учитель. Прекрасно помню, как отличать глупость от заботы. То, что вы делаете — не забота. Это контроль.
Светлана Петровна побледнела. Мария посмотрела на нее и мягко сказала:
— Я вас не виню. Вас так учили. Что старость — это когда человек не решает, а я решила. Я живу.
Две фигуры постояли еще немного. Потом Стас пожал плечами:
— Я вас не держу. Но у нас, знаете, отчетность.
— Напишите: “бабушка сбежала в жизнь”. Пусть попробуют объяснить это министерству.
Они ушли.
Макс сел на лавку, отдал булочку.
— Вы герой, просто Мария.
— Нет. Просто человек, которому надоело быть не собой.
Он кивнул, разломил булочку, отдал половину Мурке. Та обнюхала и одобрительно мяукнула.
Виктор пожал Максу руку, как в благодарность за поддержку.
— Ты приходи иногда, защитник, навестить нас.
Поздний вечер. В квартире у Виктора пахло яблоками, чаем и чем-то деревянным — то ли старой мебелью, то ли самим временем. Кошка, устроившись на подоконнике, следила за прохожими, как будто ждала, что кто-то из них принесет новости или новые тапочки. Мария сидела за столом с листом бумаги. Старым, в линейку, из какого-то школьного блокнота. Перед ней — открытый конверт, рядом — ручка и чашка с остатками облепихового чая.
Виктор подошел сзади, поставил на стол ломтик яблочного пирога.
— Не ешь — подам в суд.
— За что?
— За пренебрежение весенней поэзией. Это же почти произведение.
Она улыбнулась, отломила кусочек, но глаз не отводила от бумаги.
— Пишешь?
— Пытаюсь.
— Им?
— Да.
— Скажешь, что сбежала с поэтом и котом?
— Нет. Скажу, что ушла в себя.
Он сел напротив, взял чашку, вдохнул аромат.
— Хочешь, я скажу им за тебя?
— Нет. Это мой выбор. И моя ответственность.
Он молча кивнул. Она опустила взгляд, поднесла ручку к бумаге и начала: ”Дорогие мои, Оля и Андрей. Я пишу вам не потому, что вы мне что-то должны. И не потому, что я обиделась. А потому, что наконец могу сказать честно — без тревоги, без попыток понравиться или соответствовать. Я не вернусь. Не потому, что вы плохие. Вы хорошие. Просто вы уже давно взрослые, а я все никак не могла себе этого позволить — быть взрослой по-своему. Дом престарелых стал для меня тихим концом, который никто не назвал смертью, но все к нему подталкивали. Я жила по расписанию, ела по табелю, молчала, когда хотела говорить. Но в какой-то момент я поняла: у меня осталась не жизнь, а её имитация. И я сбежала. Да, сбежала. В пижаме, с банкой варенья и кошкой. Нет, я не сошла с ума. Наоборот — пришла в себя. Теперь я живу у человека, который понимает, что старость — это не угасание, а форма свободы. Мы пьем чай, читаем стихи, кормим кошку и слушаем джаз. Иногда мы просто молчим. И в этом молчании больше смысла, чем в любых официальных праздниках с белыми скатертями и заливным. Я не жду, что вы поймете. Мне не нужно разрешение. Просто знайте: я в порядке, здорова, не одинока, не в беде.
Я счастлива”.
Солнечный луч пробивался сквозь занавески, как гость без приглашения — настойчивый, но не грубый. Он лег на подоконник, разлившись золотом между горшком с геранью, старой керамической чашкой и вытянутым телом Мурки. Кошка лежала как сфинкс, глаза прищурены, хвост подергивается. На улице жизнь двигалась: кто-то выгуливал собаку, кто-то нес хлеб в пакете, кто-то торопился — как будто опаздывал в вечность. Мурка наблюдала за всем с тем бесстрастным презрением, которое доступно только кошкам и старым философам.
Рядом у подоконника сидела Мария. Все в той же пижаме — цветастой, чуть стершейся на локтях, но родной, как шрам. В руках — чашка чая. Темный, крепкий, чуть вяжущий. На коленях — теплый плед, подаренный студентом с квартирника. Он нашел его где-то на антресолях и сказал: “Вам подходит. Он как вы — старый, но живой”.
Квартира была простая, но уютная. Окна в парк, стены в книгах, шкаф с вареньем. Мария сняла ту банку —что сварила после побега, уже с Виктором — и поставила рядом. Празднично, просто так, потому что утро, потому что никто не просит отчетов и давления, потому что чай.
Снаружи играли дети. Кто-то бросил мяч, кто-то закричал “Не честно!”. Мария усмехнулась. Было в этом все то, чего она когда-то боялась — шум, беспорядок, жизнь, а теперь — наоборот. Это было как доказательство, что все идет правильно. Мир все еще крутится, и она, странным образом, снова стала его частью.
— Мурка, — сказала она, не отрывая взгляда от улицы, — а ведь ты не верила. Думала, я свихнулась.
Кошка только повела усами.
— Я тоже не верила. Просто… пошла.
Мурка медленно моргнула. Знак полного согласия. Или безразличия — что, по сути, одно и то же у кошек.
На столе лежало письмо от дочери. В нем — ни упреков, ни слез. Только слова: “Мы думали, ты стала маленькой. А ты — просто стала собой”. И фотография внука — с надписью детским почерком: “Бабушке-молодой”. Мария поставила письмо рядом с чашкой. Пусть лежит. Как напоминание: все на своих местах. Даже те, кто остался позади, уже начинают понимать.
Сосед сверху снова включил радио. Зазвучал старый вальс. Мария откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Не уснула — просто позволила себе замереть. Не как статуя, не как больной, а как человек, который может позволить себе ничего не делать. Потому что уже сделал главное — ушел, когда пришло время.
Мурка зевнула, слезла с подоконника, подошла и легла рядом. Мария положила ладонь ей на спинку. В комнате запахло вареньем, солнцем и тишиной. И все было хорошо.
Иногда жить — значит просто уйти.
















